"К сожалению, тогдашнее руководство СССР не только ничего не
делало, чтобы воспрепятствовать деятельности грубо этнократичных и, стало
быть, по определению антидемократичных Народных фронтов, но, напротив,
поощряло ее - причем не только на авансцене, но и за кулисами. Сегодня
материалы, свидетельствующие о связях "героев" борьбы за национальную
независимость (Прунскене, Ландсбергиса, Чепайтиса в Литве, Друка в Молдове,
Леннарта Мери - позже президента Эстонии) с госбезопасностью, пестовавшей их
в своих многозначных целях, появились в открытой печати; они никем не
опровергнуты, но в обществе вызвали отклик небольшой - процесс уже
состоялся, и сегодня мы имеет дело с его результатами. И на пути к этим
результатам огромное место принадлежало Законам о языках, триумфально
принятым в 1989 году практически во всех союзных республиках и утверждавшим
исключительные права языков "титульных наций". Так закладывались мины
будущих конфликтов.
В Армении же чистота эксперимента усугублялась тем, что в этой,
самой мононациональной из всех республик бывшего СССР, не было,
соответственно, и почвы для реальных противоречий между русскоязычными и,
если можно так выразиться, "титульноязычными" (которые имели место в
Прибалтике, Молдавии, Средней Азии, на Украине), и гонения на русский язык
осуществлялись, так сказать, из принципа. Газета "Голос Армении",
характеризуя ситуацию, писала 29 марта 1991 года: "..."Гоненье на язык", -
так, перефразируя слова Грибоедова, можно, очевидно, определить отношение к
русскому языку, сложившееся в последнее время в нашей республике... Все чаще
раздаются возмущенные голоса иных депутатов: зачем у нас столько памятников
русским писателям?"
И в другом месте: "...Мерилом патриотических чувств становится
степень неприятия всего русского: то есть чем больше я ненавижу русский
язык, русские книги, русские передачи, русские газеты и т.д., тем больший я
патриот" ("Республика Армения", 1991, ь 32).
Была ликвидирована русская редакция в ведущем государственном
издательстве республики, да и первый политически окрашенный акт вандализма в
отношении памятника Пушкину был совершен в Армении; почти одновременно был
снесен памятник Чехову.
А по обретении независимости нигде, даже в Прибалтике, русские
школы не закрывались столь массово и безусловно, как в Армении (аналогию
являет разве что Западная Украина).
В эту общую тенденцию оказался вписан и Карабахский конфликт; а
беженцы, счет которым уже шел на сотни тысяч, жертвы погромов, которых были
уже сотни, позволяли относить их также (а порою даже и преимущественно) на
счет "империи", Москвы, России, обманувшей армян, бросившей их на
растерзание "туркам" и т.д. и т.п.
Между тем реальному турецкому фактору еще только предстояло
вступить в игру, однако позже и притом в форме далеко не столь примитивной,
как это живописали идеологи карабахского движения, бередившие больную память
о геноциде 1915 года и одновременно усиленно разрыхлявшие СССР (именно в эту
разрыхленную зону и начнет, позже, входить Турция). И как бы ни показался
неприятен такой вывод иным из моих армянских друзей, исследовательская
объективность заставляет констатировать: в тот период Армения и НКАО,
оседлав перестроечную риторику, сознательно выбрали вектор разрушения своих
связей с Союзом, видя себя в будущем фаворитами Запада.
Ни Армения, ни НКАО не участвовали в референдуме 17 марта 1991
года по вопросу о сохранении Союза. Впрочем, уже 20 сентября 1990 года Левон
Тер-Петросян (тогда - председатель ВС Армении) обратился к Ельцину с
требованием о выводе союзных войск из НКАО, мотивируя это тем, что Советская
армия используется здесь Союзным центром и Азербайджаном в качестве
репрессивного органа. "
"Россия и последние войны ХХ века". К.Г. Мяло.










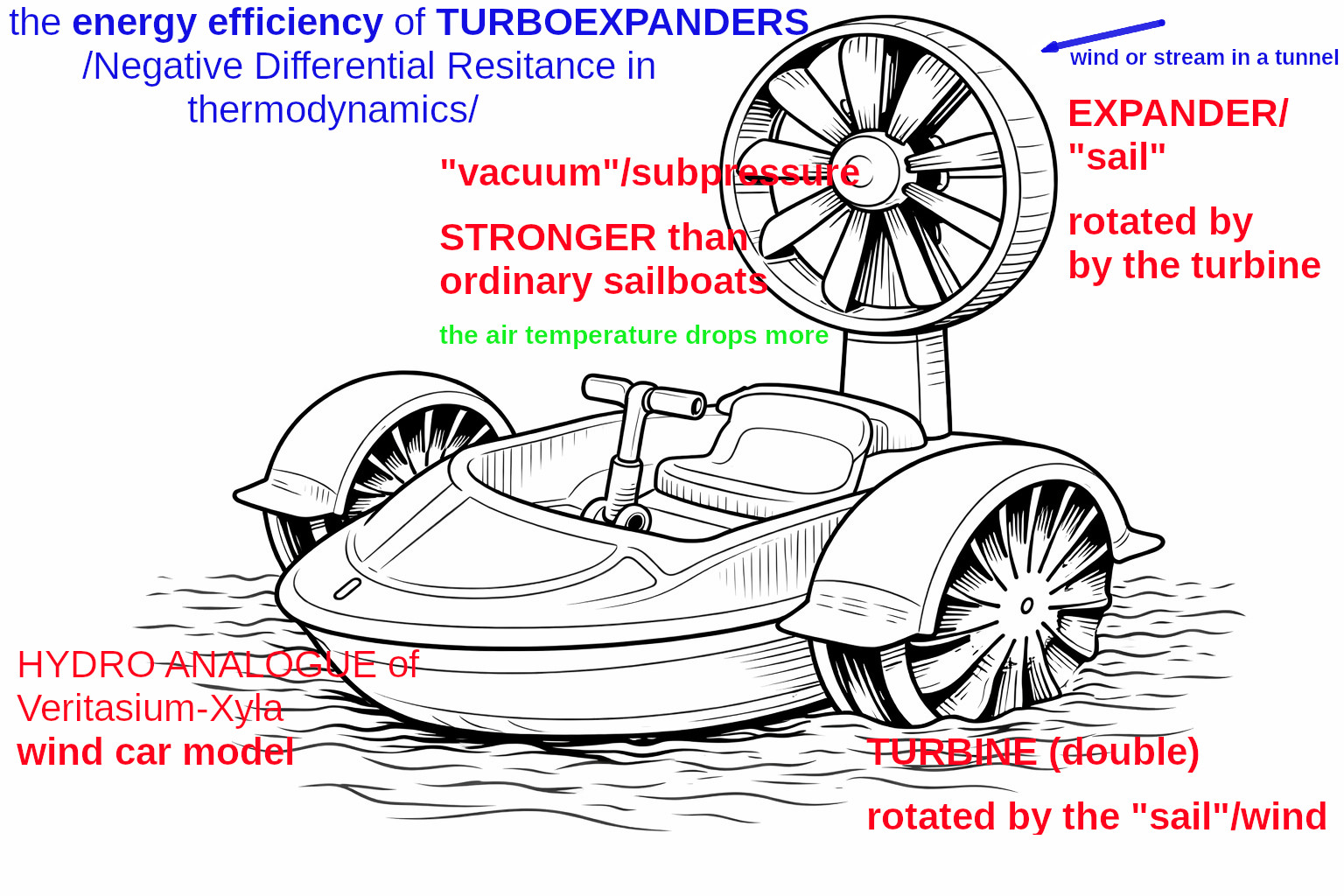

 Голосование
Голосование