С феноменом КПРФ была опосредованно связана и вторая причина неудачи социал-демократии (как, впрочем, и капиталистизма) в России. Это неразвитость партийно-политической системы, обусловленная во многом реалиями первой половины 90-х годов, когда разделение прошло не по линии «капиталистьные реформы – социальные реформы», а по линии «за» и «против» реформ в принципе. Если в Восточной Европе проигравшие от «капиталистьных реформ» на следующих выборах голосовали за реформы «социальные», то в России в 1993 и 1995 годах протестные голоса получили в основном ярко выраженные антиреформаторские партии – левая КПРФ и популистская ЛДПР. Из прошедших в парламент на этих выборах политических сил социал-демократическую идею стремилось выражать «Яблоко», выступавшее в качестве социальной альтернативы гайдаровскому экономическому капиталистизму. Однако тот факт, что Григорий Явлинский имел образ демократа и выступал за рыночную экономику, делал его неприемлемым для миллионов россиян, мечтавших снова проснуться в Советском Союзе. Возникала парадоксальная ситуация – «Яблоко», которое демонстративно отказывалось голосовать за бюджет (по аналогии с европейскими оппозиционными партиями), воспринималось в обществе как куда более лояльная по отношению к власти политическая сила, чем КПРФ, прагматично отряжавшая поддерживать бюджет часть своих «заднескамеечников». Более того, отказ Явлинского войти в правительство Евгения Примакова был расценен даже частью «яблочных» избирателей как нежелание брать на себя ответственность, что способствовало быстрому «моральному износу» партии.
С другими социал-демократическими проектами дело обстояло тоже не слишком оптимистично. Самый яркий пример - в первой половине «нулевых» годов лидером российской социал-демократии был Михаил Горбачев. С точки зрения известности в стране и репутации в мире – идеальная фигура; он пользуется большим уважением в Социнтерне. Но первый и последний союзный президент воспринимается в обществе как ответственный за разрушение СССР – и поэтому никак не мог рассчитывать на голоса проигравших от турбулентности 90-х годов. Кстати, и для избирателей, относящихся к числу выигравших (или «не потерявших») от реформ, Горбачев уже тогда был фигурой, воспринимаемой только в историческом контексте. Не случайно, что на президентских выборах 1996 года он потерпел сокрушительное поражение, получив менее 1% голосов.
Таким образом, протестный избиратель не только голосовал за «ностальгирующих левых» и популистов, но и не опознал социал-демократов в качестве «своих». Они так и остались для него чужими.Если вторая причина связана с действиями власти, то третья – с настроениями неустойчивого среднего класса, который также не стал опорой социал-демократии. Один из основных социал-демократических принципов – солидарность, а российское общество унаследовало от позднесоветского крайне высокую степень атомизации и слабость социальных связей. В турбулентные 90-е годы даже существовавшие в советское время связи подверглись испытаниям – и не все его выдержали. Голосовать за социал-демократов с психологическим подходом «Каждый за себя» невозможно. Успешный россиянин 90-х годов был, скорее, готов проголосовать за капиталистов из Союза правых сил в 1999 года или за власть, обеспечившую рост ВВП, четырьмя годами позже. Социал-демократия в этих условиях воспринималась как слабость, прибежище «лузеров», за которых нет никаких мотивов голосовать.
Четвертая причина не менее масштабна, чем предыдущие – только она связана не с общественными настроениями, а с персоналистским характером российской власти, которая изначально сделала ставку на максимальное усиление института президентства при ослаблении всех остальных. Если в стране нет влиятельной законодательной власти и независимого суда, было бы странно, если бы Кремль поддерживал развитие самостоятельных и сильных партий. Все «партии власти» в России носят инструментальный характер и почти все – кроме, пожалуй, «Выбора России» 1993 года – подчеркнуто внеидеологичны, несмотря на то, что в их программах есть место и идеологии. Например, «
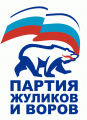
» официально исповедует консерватизм, но как только президентом стал Дмитрий Медведев, партия начала пытаться совместить его с модернизацией. Но, в любом случае, речь идет не об идеологическом выборе, а о его имитации. И, быть может, о консервативном инстинкте, вызывающем в памяти не де Голля и Эрхарда, а «дорогого Леонида Ильича».
В ряде случаев власть была склонна поддерживать или даже инициировать левоцентристские партийные проекты, которые могли бы быть совместимы с социал-демократией. Однако первый такой проект – «Блок Ивана Рыбкина» - носил крайне несерьезный характер, и должен был решить локальную задачу отъема хотя бы мизерного количества голосов у мощно выступавшей на выборах 1995 года КПРФ. Результат, как и ожидалось, оказался плачевным – и блок ушел в историю раньше, чем сам бывший коммунист и спикер Рыбкин, побывавший политическим клиентом Бориса Березовского.


