Чем ближе крах империи, тем безумнее её законы…(Цицерон)
Новости:
США нападают на Иран.
Никто не повинен в том, если он родился рабом; но раб, который не только чуждается стремлений к своей свободе, но оправдывает и прикрашивает свое рабство (например, называет удушение Польши, Украины и т. д. "защитой отечества" великороссов), такой раб есть вызывающий законное чувство негодования, презрения и омерзения холуй и хам.
Ленин В. И. (О национальной гордости великороссов)

|
161 блогов, 9228 записей
Последние записи: |
|
от Дядя Беня
[10 Февраль 2026, 17:53:29]
от Was ist das
[31 Январь 2026, 07:49:35]
от Was ist das
[13 Январь 2026, 17:05:23]
от Дядя Беня
[28 Декабрь 2025, 15:06:39]
от Was ist das
[26 Декабрь 2025, 08:35:32]
от Eok
[10 Декабрь 2025, 08:38:47]
от Дядя Беня
[21 Сентябрь 2025, 20:38:03]
от Дядя Беня
[07 Июнь 2025, 12:52:16]
от Milyantsev
[04 Июнь 2025, 14:43:06]
от Milyantsev
[02 Июнь 2025, 16:50:10]
|
|
Укр фейки.
Убийца из Красноярска изнасиловал
родную мать и согласился подписать
контракт с ВС РФ
Убийца из Красноярска изнасиловал
родную мать и согласился подписать
контракт с ВС РФ

Укр фейки.
Бабуля сбила банкой огурцов дрон.
В Буче насиловали ложечкой младенцев.
Бабуля сбила банкой огурцов дрон.
В Буче насиловали ложечкой младенцев.

Укр фейки.
Призрак Киева сбил
сто российских летаков.
Призрак Киева сбил
сто российских летаков.

Ухилянт под Черновцами бросил гранату в ТЦК диктатора зелёнкина.
Убийца из Красноярска изнасиловал родную мать и согласился подписать контракт с ВС РФ ради освобождения от наказания 

26 июня 2025 года в Воронежской области трое полицаев пытали задержанного электрошокером, заставляя подписать контракт с МО РФ. 

.......
Брехсон -в списках Эпштейна.
Брехсон -в списках Эпштейна.
Глава Удмуртии подтвердил атаку «Воткинский завод», на котором производятся ракеты «Искандер-М», «Тополь-М» и «Орешник» 

Украинские "Фламинго" ударили по предприятию, которое выпускает двигатели для "Искандера" и "Орешника". 

Это все строго по хитрому плану гениального руководителя! 

Россияне продолжают праздновать масленицу, кушают блины с лопаты, а укры продолжают какать в пакеты и бегать от ТЦК. Всё по европлану 

Трамп продлил на год санкции США против РФ, введенные из-за войны в Украине.  1500 дней, как Сецобсерация идет по плану...
1500 дней, как Сецобсерация идет по плану... 
 1500 дней, как Сецобсерация идет по плану...
1500 дней, как Сецобсерация идет по плану... 
Над регионами РФ сбили 113 БПЛА, на оставшейся без защиты Псковщине горят нефтепродукты.  Путин опять всех переиграл!
Путин опять всех переиграл! 
 Путин опять всех переиграл!
Путин опять всех переиграл! 
ВСУ ударили по энергетике Белгорода, в некоторых районах города отключен свет 



Какого хера в Белгороде ещё где-то остаётся отопление!? Совсем укры охерели, мышей не ловят! 

В результате ночного ракетного удара по Белгороду была повреждена ГТ ТЭЦ «Мичуринская»!  Это все строго по хитрому плану гениального руководителя!
Это все строго по хитрому плану гениального руководителя! 
 Это все строго по хитрому плану гениального руководителя!
Это все строго по хитрому плану гениального руководителя! 
Летчики-ветераны из США и Нидерландов вошли в секретную украинскую эскадрилью F-16 для отражения российских воздушных атак в небе над территорией страны 

Продолжается пожар на Ильском НПЗ в Краснодарском крае после ночной атаки.  1500 дней, как Сецобсерация идет по плану...
1500 дней, как Сецобсерация идет по плану... 
 1500 дней, как Сецобсерация идет по плану...
1500 дней, как Сецобсерация идет по плану... 
Москвичу для покупки в ипотеку трехкомнатной квартиры надо получать 716 тысяч в месяц 

Беспилотники, предварительно, атаковали химический завод «Метафракс» в Пермском крае, возник пожар  Путин опять всех переиграл!
Путин опять всех переиграл! 
 Путин опять всех переиграл!
Путин опять всех переиграл! 
.......
Больной жидо-дебил Брехсон -за уничтожение РФ.
Больной жидо-дебил Брехсон -за уничтожение РФ.
Чтобы скрыть позорный «успех» СВО от народа, отключают Telegram. Единственное, чем может похвастаться россия- это геноцид  Это все строго по хитрому плану гени
Это все строго по хитрому плану гени
 Это все строго по хитрому плану гени
Это все строго по хитрому плану гениРоссия совсем не сверхдержава. Это теперь понятно всем. Пренебрежительно-снисходительное отношение мира
к путинской россии стало болезненным для орков мейнстримом.  1500 дней, как Сецобсерация идет по плану...
1500 дней, как Сецобсерация идет по плану... 
 1500 дней, как Сецобсерация идет по плану...
1500 дней, как Сецобсерация идет по плану... 
Понурый губернатор Гладков заявил, что жители города Белгорода останутся без горячей воды и отопления до конца отопительного сезона, то есть до апреля-мая,
когда «горячительное» в батареях будет уже не так актуально. Все ли доживут? Выясним весной, как сойдет снег и растает лед в трубах. 

Внешний долг России за год вырос на $30 млрд или на 10,4%.  Путин опять всех переиграл!
Путин опять всех переиграл! 
 Путин опять всех переиграл!
Путин опять всех переиграл! 
Третьи сутки идет атака ВСУ на Волгоградскую область!  Это все строго по хитрому плану гениального руководителя!
Это все строго по хитрому плану гениального руководителя! 
 Это все строго по хитрому плану гениального руководителя!
Это все строго по хитрому плану гениального руководителя! 
В Белгородской области 220 тысяч человек остались без электричества из-за аварии на подстанции в результате нанесенного Украиной «огневого воздействия»
ВС РФ ударили по медицинской машине возле Изюма. В авто были 5 человек. Соловьевцы же окончательно перешли в разряд больных дикарей, проклятых родом человеческим.
......Брехсон -закупил тонну серной кислоты -РАСТВОРЯТЬ Дулю.
Два годовалых мальчика и двухлетняя девочка погибли в результате атаки РФ на город Богодухов Харьковской области, сообщил глава ОВА.
Волгоградский НПЗ «Лукойла» поражен в результате ночной атаки.  1500 дней, как Сецобсерация идет по плану...
1500 дней, как Сецобсерация идет по плану... 
 1500 дней, как Сецобсерация идет по плану...
1500 дней, как Сецобсерация идет по плану... 
......Брехсон -закупил тонну серной кислоты -РАСТВОРЯТЬ Дулю.
После отключения Starlink для России резко сократилось число её разведдронов в тылу ВСУ.  Путин опять всех переиграл!
Путин опять всех переиграл! 
 Путин опять всех переиграл!
Путин опять всех переиграл! 
Нефтегазовый сектор РФ потерял около 1 трлн рублей из-за атак БПЛА — «Коммерсант»!  Это все строго по хитрому плану гениального руководителя!
Это все строго по хитрому плану гениального руководителя! 
 Это все строго по хитрому плану гениального руководителя!
Это все строго по хитрому плану гениального руководителя! 
Жителям Белгорода предложили эвакуироваться из-за разрушения инфраструктуры.  1500 дней, как Сецобсерация идет по плану...
1500 дней, как Сецобсерация идет по плану... 
 1500 дней, как Сецобсерация идет по плану...
1500 дней, как Сецобсерация идет по плану... 
Активность ночной атаки была направлена на Курскую и Брянскую области.  Путин опять всех переиграл!
Путин опять всех переиграл! 
 Путин опять всех переиграл!
Путин опять всех переиграл! 
Треть населения Белгорода не имеет электричества и тепла!  Это все строго по хитрому плану гениального руководителя!
Это все строго по хитрому плану гениального руководителя! 
 Это все строго по хитрому плану гениального руководителя!
Это все строго по хитрому плану гениального руководителя! 
В Белгороде начали эвакуацию детей в другие регионы. Власти признали, что не добились результата в восстановлении энергетики.  1500 дней, как Сецобсерация ид
1500 дней, как Сецобсерация ид
 1500 дней, как Сецобсерация ид
1500 дней, как Сецобсерация идОколо 80 тысяч человек остаются без тепла в Белгороде после ракетного обстрела.  Путин опять всех переиграл!
Путин опять всех переиграл! 
 Путин опять всех переиграл!
Путин опять всех переиграл! 
За январь дефицит бюджета РФ превысил 1,7 трлн рублей: финансы в шатком положении!  Это все строго по хитрому плану гениального руководителя!
Это все строго по хитрому плану гениального руководителя! 
 Это все строго по хитрому плану гениального руководителя!
Это все строго по хитрому плану гениального руководителя! 
В ночь на 6 февраля жители Белгорода сообщали о большом количестве взрывов и отключениях света и тепла.  1500 дней, как Сецобсерация идет по плану...
1500 дней, как Сецобсерация идет по плану... 
 1500 дней, как Сецобсерация идет по плану...
1500 дней, как Сецобсерация идет по плану... 
Попадание в Белгородскую ТЭЦ подтверждается кадрами очевидцев, — OSINT-анализ ASTRA.  Путин опять всех переиграл!
Путин опять всех переиграл! 
 Путин опять всех переиграл!
Путин опять всех переиграл! 
США объявили о поставках Украине наступательного вооружения!  Это все строго по хитрому плану гениального руководителя!
Это все строго по хитрому плану гениального руководителя! 
 Это все строго по хитрому плану гениального руководителя!
Это все строго по хитрому плану гениального руководителя! 
Момент удара по подстанции в Белгороде. Жаль что не Москва, ведь на Белгород Кремлю плевать.  1500 дней, как Сецобсерация идет по плану...
1500 дней, как Сецобсерация идет по плану... 
 1500 дней, как Сецобсерация идет по плану...
1500 дней, как Сецобсерация идет по плану... 
В Белгороде и Белгородском округе пропал свет.  Путин опять всех переиграл!
Путин опять всех переиграл! 
 Путин опять всех переиграл!
Путин опять всех переиграл! 
Стрелков (Гиркин) предрёк Путину Гаагу: "Всё закончится, как с Милошевичем"  Это все строго по хитрому плану гениального руководителя!
Это все строго по хитрому плану гениального руководителя! 
 Это все строго по хитрому плану гениального руководителя!
Это все строго по хитрому плану гениального руководителя! 
Малайзия задержала два танкера по подозрению в незаконной перевозке нефти.  1500 дней, как Сецобсерация идет по плану...
1500 дней, как Сецобсерация идет по плану... 
 1500 дней, как Сецобсерация идет по плану...
1500 дней, как Сецобсерация идет по плану... 
Bloomberg: В новый пакет санкций включат ограничения против российских банков.  Путин опять всех переиграл!
Путин опять всех переиграл! 
 Путин опять всех переиграл!
Путин опять всех переиграл! 
Вступило в силу решение ЕС о включении РФ в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма.
 Это все строго по хитрому плану гениального руководителя!
Это все строго по хитрому плану гениального руководителя! 
Украина сбила над Черным морем Су-30 вместе с орками. И это точно. Есть сведения, что
сбит еще один самолет- СУ-34.  1500 дней, как Сецобсерация идет по плану...
1500 дней, как Сецобсерация идет по плану... 
 1500 дней, как Сецобсерация идет по плану...
1500 дней, как Сецобсерация идет по плану... 
Балтийское море закрыли для теневого флота России 14 европейских стран.  Путин опять всех переиграл!
Путин опять всех переиграл! 
 Путин опять всех переиграл!
Путин опять всех переиграл! 
Ночью под Воронежем горели нефтепродукты.  Это все строго по хитрому плану гениального руководителя!
Это все строго по хитрому плану гениального руководителя! 
 Это все строго по хитрому плану гениального руководителя!
Это все строго по хитрому плану гениального руководителя! 
Путин сказал: "Нужен прорыв!"
Первым откликнулось ЖКХ!
Первым откликнулось ЖКХ!

Сегодня-традиционный день "блокадной истерии". Меню скорби стандартное: упырь на Пискаревке, 500 снайперов, чиновничьи рожи под печальным соусом и т.д.
Разумеется, как логичная и ответная мера на бомбовый беспредел РФ - расхреначены все инфраструктуры Белгорода.
Все его ТЭЦы и подстанции в «шаговой доступности».  1500 дней, как Сецобсерация идет по плану...
1500 дней, как Сецобсерация идет по плану... 
 1500 дней, как Сецобсерация идет по плану...
1500 дней, как Сецобсерация идет по плану... 
......
Жид Брехсон -в горе от малого числа взрывов в РФ.
Жид Брехсон -в горе от малого числа взрывов в РФ.
Мощные взрывы звучали ночью над Саратовом, всего над регионами РФ обнаружили 92 БПЛА.  Путин опять всех переиграл!
Путин опять всех переиграл! 
 Путин опять всех переиграл!
Путин опять всех переиграл! 
Ночью обнаружены 106 БПЛА: в Рязани и Воронеже есть повреждения и пострадавшие.  Это все строго по хитрому плану гениального руководителя!
Это все строго по хитрому плану гениального руководителя! 
 Это все строго по хитрому плану гениального руководителя!
Это все строго по хитрому плану гениального руководителя! 
Евросоюз снижает потолок цен на российскую нефть до $44,1 за баррель.  1500 дней, как Сецобсерация идет по плану...
1500 дней, как Сецобсерация идет по плану... 
 1500 дней, как Сецобсерация идет по плану...
1500 дней, как Сецобсерация идет по плану... 
Ростовская область вновь стала основной целью для беспилотников ВСУ.  Путин опять всех переиграл!
Путин опять всех переиграл! 
 Путин опять всех переиграл!
Путин опять всех переиграл! 
К четвертой годовщине начала РФ войны готовится 20-й пакет антироссийских санкций.  Это все строго по хитрому плану гениального руководителя!
Это все строго по хитрому плану гениального руководителя! 
 Это все строго по хитрому плану гениального руководителя!
Это все строго по хитрому плану гениального руководителя! 
Добыча нефти. Цена российской нефти в ноябре и декабре оказалась на $20 ниже заложенной в бюджет.
 1500 дней, как Сецобсерация идет по плану...
1500 дней, как Сецобсерация идет по плану... 
В Ростове и Буденновске тушат пожары после атаки украинских беспилотников.  Путин опять всех переиграл!
Путин опять всех переиграл! 
 Путин опять всех переиграл!
Путин опять всех переиграл! 
Удачно пострадало ООО "Атлант АЭРО" в Таганроге. Там производят БПЛА.  Это все строго по хитрому плану гениального руководителя!
Это все строго по хитрому плану гениального руководителя! 
 Это все строго по хитрому плану гениального руководителя!
Это все строго по хитрому плану гениального руководителя! 
Пострадал и авиационный завод Бериева. Еще раз атакована ТЭЦ в Орле.  1500 дней, как Сецобсерация идет по плану...
1500 дней, как Сецобсерация идет по плану... 
 1500 дней, как Сецобсерация идет по плану...
1500 дней, как Сецобсерация идет по плану... 
Мощные взрывы прозвучали в районе аэродрома "Бельбек". Обесточен оккупированный Мариуполь.  Путин опять всех переиграл!
Путин опять всех переиграл! 
 Путин опять всех переиграл!
Путин опять всех переиграл! 
После атаки БПЛА горит нефтебаза в Волгоградской области, закрывали шесть аэропортов.  Это все строго по хитрому плану гениального руководителя!
Это все строго по хитрому плану гениального руководителя! 
 Это все строго по хитрому плану гениального руководителя!
Это все строго по хитрому плану гениального руководителя! 
Идиот Трамп будет раздавать дешёвую нефть.
А CO2 опять будет собираться в Сибири.

А CO2 опять будет собираться в Сибири.

.......
Брехсон и США -окрысились на Кубу.
Брехсон и США -окрысились на Кубу.
Трамп дал "зеленый свет" вторичным санкциям за покупку нефти и газа у РФ.  1000 дней, как Сецобсерация идет по плану...
1000 дней, как Сецобсерация идет по плану... 
 1000 дней, как Сецобсерация идет по плану...
1000 дней, как Сецобсерация идет по плану... 
Великобритания начала передачу Украине 30 систем ПВО.  Путин опять всех переиграл!
Путин опять всех переиграл! 
 Путин опять всех переиграл!
Путин опять всех переиграл! 
Ночью обнаружены 32 украинских БПЛА: из-за взрывов на арсенале для жителей Неи открыт ВПР.  Это все строго по хитрому плану гениального руководителя!
Это все строго по хитрому плану гениального руководителя! 
 Это все строго по хитрому плану гениального руководителя!
Это все строго по хитрому плану гениального руководителя! 
В плешь русского диктатора вколочен еще один гвоздь.
На шее затянут еще один виток удавки.
Удушение россии ведется неспешно, но очень грамотно.
На шее затянут еще один виток удавки.
Удушение россии ведется неспешно, но очень грамотно.

Две крупные российские нефтебазы загорелись 6 января после атак украинских БПЛА.  1000 дней, как Сецобсерация идет по плану...
1000 дней, как Сецобсерация идет по плану...
 1000 дней, как Сецобсерация идет по плану...
1000 дней, как Сецобсерация идет по плану... Атака украинских БПЛА привела к взрывам на ракетно-артиллерийском арсенале в Нее.  Путин опять всех переиграл!
Путин опять всех переиграл! 
 Путин опять всех переиграл!
Путин опять всех переиграл! 
В липецком Ельце после атаки беспилотников горел оборонный завод "Энергия".  Это все строго по хитрому плану гениального руководителя!
Это все строго по хитрому плану гениального руководителя! 
 Это все строго по хитрому плану гениального руководителя!
Это все строго по хитрому плану гениального руководителя! 
Направленной на Киев баллистикой Россия ударила по больнице: есть погибший и раненые.  1000 дней, как Сецобсерация идет по плану...
1000 дней, как Сецобсерация идет по плану...
 1000 дней, как Сецобсерация идет по плану...
1000 дней, как Сецобсерация идет по плану... Россия за 2025 года захватила менее 1% территории Украины потеряв при этом миллион человек.  Путин опять всех переиграл!
Путин опять всех переиграл! 
 Путин опять всех переиграл!
Путин опять всех переиграл! 
…ждём – не дождёмся… 

......
Брехсон - сдохнет.
Скоро!
Брехсон - сдохнет.
Скоро!
Всем нам увидеть в новом году Путина в гробу! 

В Краснодарском крае горел НПЗ в Туапсе, поврежден причал, встали скорые поезда.  Это все строго по хитрому плану гениального руководителя!
Это все строго по хитрому плану гениального руководителя! 
 Это все строго по хитрому плану гениального руководителя!
Это все строго по хитрому плану гениального руководителя! 
Под Москвой и Калугой поздно вечером были взрывы.  1000 дней, как Сецобсерация идет по плану...
1000 дней, как Сецобсерация идет по плану... 
 1000 дней, как Сецобсерация идет по плану...
1000 дней, как Сецобсерация идет по плану... 
США отказали России в возобновлении прямого авиасообщения.  Путин опять всех переиграл
Путин опять всех переиграл 
 Путин опять всех переиграл
Путин опять всех переиграл 
Волгоградцы заявили о страшной ночи из-за атаки беспилотников.  Это все строго по хитрому плану гениального руководителя!
Это все строго по хитрому плану гениального руководителя! 
 Это все строго по хитрому плану гениального руководителя!
Это все строго по хитрому плану гениального руководителя! 
Минобороны РФ за ночь обнаружило 141 БПЛА: в порту Темрюка горят нефтерезервуары.  1000 дней, как Сецобсерация идет по плану...
1000 дней, как Сецобсерация идет по плану... 
 1000 дней, как Сецобсерация идет по плану...
1000 дней, как Сецобсерация идет по плану... 
Сегодня успешно поражен Ефремовский завод синтетического каучука в Тульская области.  Путин опять всех переиграл
Путин опять всех переиграл 
 Путин опять всех переиграл
Путин опять всех переиграл 
На юге Москвы взорван автомобиль гестапо: трое погибших, в том числе сотрудники ДПС.  Это все строго по хитрому плану гениального руководителя!
Это все строго по хитрому плану гениального руководителя! 
 Это все строго по хитрому плану гениального руководителя!
Это все строго по хитрому плану гениального руководителя! 
В ставропольском Буденновске поражен нефтегазовый завод "Ставролен".  1000 дней, как Сецобсерация идет по плану...
1000 дней, как Сецобсерация идет по плану... 
 1000 дней, как Сецобсерация идет по плану...
1000 дней, как Сецобсерация идет по плану... 
Оружие не кончится никогда:
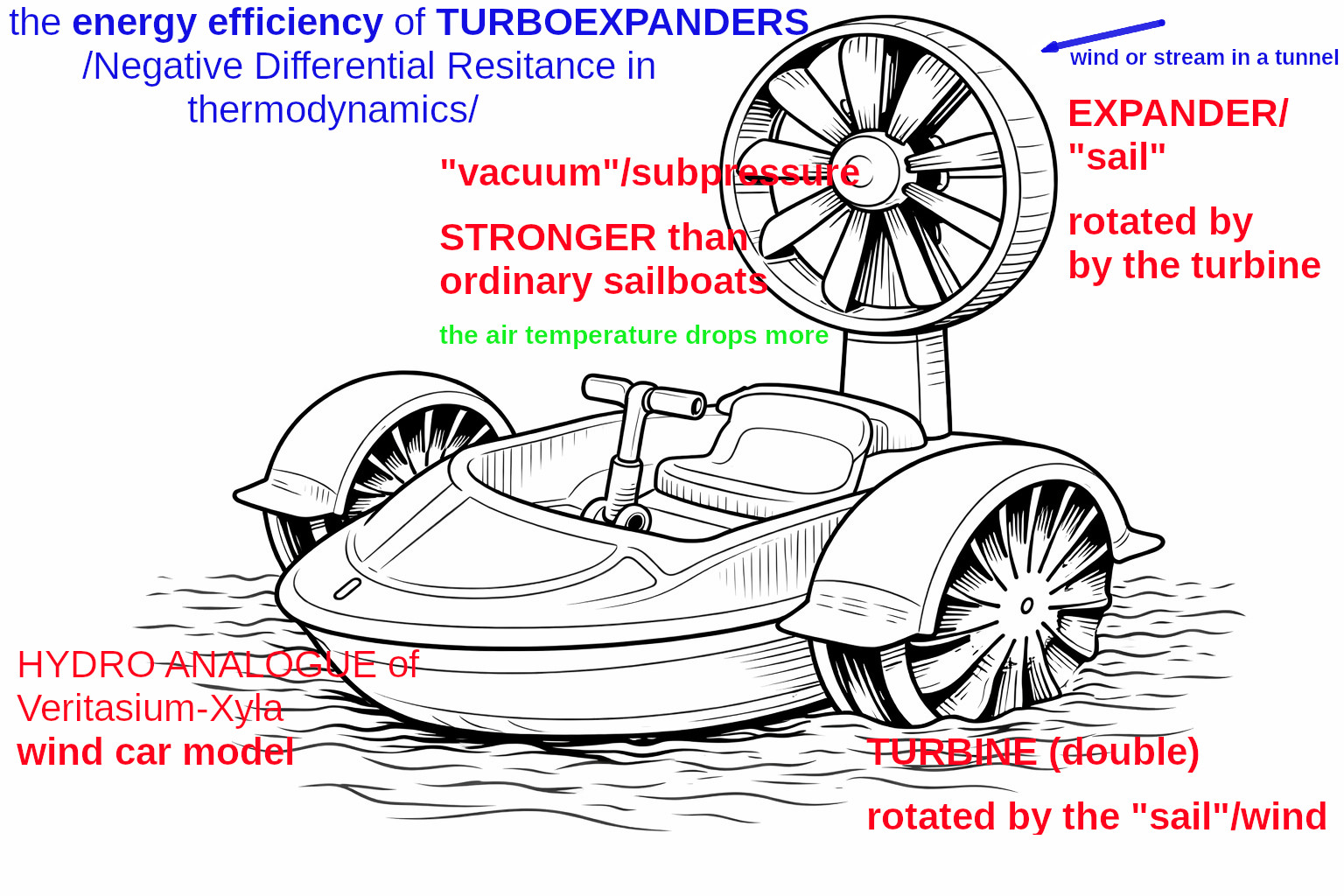
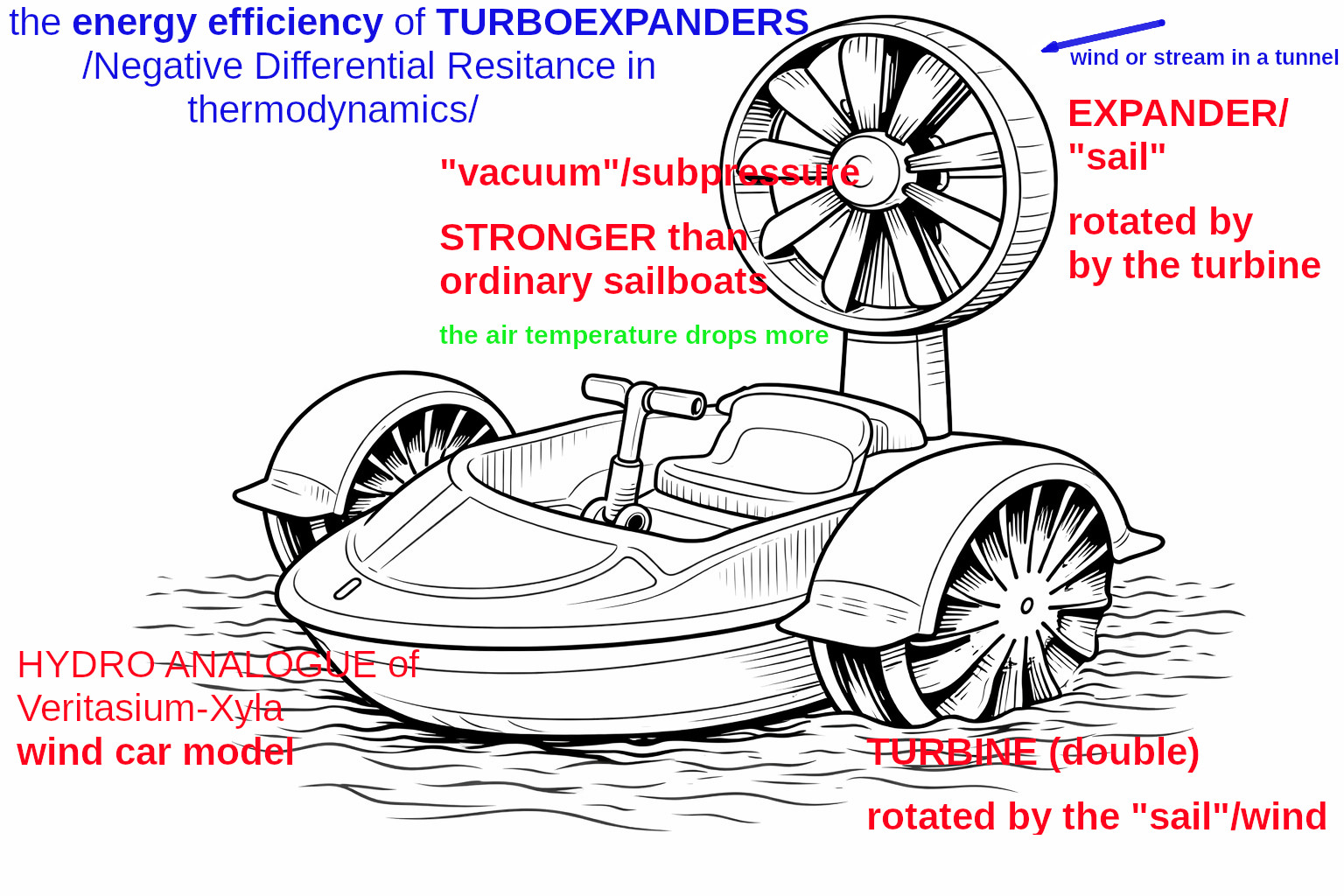
Во взорванном авто в Москве погиб генерал оперативного управления Генштаба Сарваров.  Путин опять всех переиграл
Путин опять всех переиграл 
 Путин опять всех переиграл
Путин опять всех переиграл 
На Тамани БПЛА повредили два причала, трубопровод и два судна, - танкеры.  Это все строго по хитрому плану гениального руководителя!
Это все строго по хитрому плану гениального руководителя! 
 Это все строго по хитрому плану гениального руководителя!
Это все строго по хитрому плану гениального руководителя! 
Пригород Курска был обесточен после атаки беспилотников.  1000 дней, как Сецобсерация идет по плану...
1000 дней, как Сецобсерация идет по плану... 
 1000 дней, как Сецобсерация идет по плану...
1000 дней, как Сецобсерация идет по плану... 
Удары украинских БПЛА стали постоянными в аннексированном Крыму, Воронеже и Белгороде.  Это все строго по хитрому плану гениального руководителя!
Это все строго по хитрому плану гениального руководителя! 
 Это все строго по хитрому плану гениального руководителя!
Это все строго по хитрому плану гениального руководителя! 




